ГАЗЕТА "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"
АНТОЛОГИЯ ЖИВОГО СЛОВА
| ГЛАВНАЯ | АРХИВ АНТОЛОГИИ ЖИВОГО СЛОВА | АВТОРЫ № 177 2013г. | ПУЛЬС | ТРАДИЦИЯ | РЕЗОНАНС | ЗЕМЛЯ | ФАЛЬСИФИКАЦИИ | ВОЙНА |
| ИУДАИКА | ЭССЕ | ДИАЛОГ | ИСТОРИЯ | ПАРНАС | ЭГО | МНЕНИЕ |
 |
Ежемесячная газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"Copyright © 2013 |
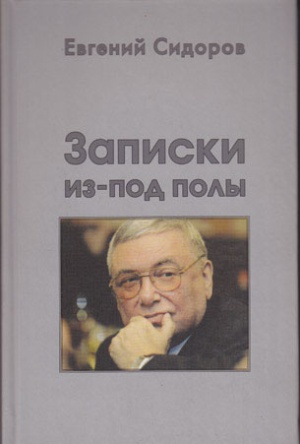 |
Олег Хлебников
Река по имени факт
Любому нормальному человеку иногда нужен умный собеседник. Современные писатели редко удовлетворяют эту читательскую потребность. Под слишком мягкими обложками толстых литературных журналов искать собеседника – труд старательский. В основном выделываются ребята или мрачные антиутопии нагнетают, а иные пишут так медленно-скучно, как будто их произведения заведомая классика, только Гершензону медленно и читать. А под слишком лаковыми обложками «бестселлеров» собеседника вообще не найдешь – здесь, уповая на твои простейшие инстинкты, более-менее честно пытаются тебя отвлечь и развлечь.
И как же радостно вдруг найти интересного и честного собеседника под твердой и скромной обложкой новой книги. Не переиздания Толстого, Достоевского, Розанова – а действительно новой, написанной твоим современником и касающейся тех вопросов, которые торчат в смоге новейшей истории. Кстати, ее автор точнее меня поставил диагноз сегодняшнему литпроцессу: «Нынешняя наша литература, как правило, почти не рождает глубоких и серьезных мыслей о жизни. Она превращается в текст, где слово поглотило автора. Опять требуется в подполье, андеграунд, катакомбы…» Это из новой книги Евгения Сидорова «Записки из-под полы» (М., «Художественная литература») – не путать с «Записками из подполья»! – которая как раз противостоит названной тенденции.
И вот тут скажу о том, почему книгу Сидорова с полным на то основанием издала «Художественная литература», почему его «Записки из-под полы» при безусловной документальности повествования – именно художественная литература. Все очень просто – перед нами современный роман. В нем есть все признаки этого самого сложного и читаемого жанра: четко очерченные характеры героев, попадающих в непростые обстоятельства времени и места, сюжет, не придуманный, а написанный Временем, рефлексирующая и раскрывающаяся по ходу повествования личность главного героя – самого автора, знание о тех деталях и отношениях, которое делает литературу лучшей историей, наконец, описания красот мира, что в современной прозе встретишь крайне редко (у Сидорова это чаще всего любимая им Италия). Имеет ли значение то, что герои сидоровского романа зачастую сами писатели или деятели культуры (помимо политиков)? Ну, в конце концов, Сидоров по одной из главных своих профессий литературный критик (а еще и юрист, и дипломат, и газетчик, и преподаватель)… Но важнее другое – большинство сидоровских героев уже стали или явлениями русской жизни (Горбачев, Ельцин, Евтушенко…), или именами нарицательными.
С популярной у нынешних читателей мемуарной литературой книгу Сидорова роднит только то, что он много где был, что видел и о чем знает. А был он и сотрудником «Московского комсомольца», «Юности» и «Литературки» в их лучшие годы, и министром культуры РФ в самые непредсказуемые для правительства РФ ельцинские времена, и послом России во Франции, и представителем этой России в ЮНЕСКО… Объездил, натурально, весь мир, разговаривал с его политическими и духовными лидерами…
Все это вызывает естественный побочный интерес к его книге. Когда имеешь дело с честным и откровенным собеседником, очень даже заманчиво глотнуть чистой воды «из реки по имени Факт». И все же не это главное. Важнее – сам собеседник, который совершенно не лукав и не скрытен в общении, наоборот, абсолютно искренен с тобой, читателем, так, как будто ты сойдешь на следующей станции и никогда не воспользуешься его откровенностью в возможных корыстных целях…
Евгений Сидоров
Из записок «Из-под полы»
* * *
Из письма Юнне Мориц 11 сентября 1974 года: «Знаешь, Юнна, что мне так дорого в тебе, нынешней, – объективность… Птицы нашей молодости научились садиться на землю, понимая, что одно романтическое, эгоистическое паренье есть гибель и бессмыслица. У тебя очень жизнерадостный дар; почти языческое пиршество красок и запахов земли повсюду чуть охлаждено умом музыки, чтобы не сорваться в бесформенность, бормотание, неряшливость чувства. «Уйдем из-под власти корыстных инстинктов таланта». «Избегнем трагических нот, чтоб избегнуть вранья» – в этом-то все и дело!”
* * *
Когда умер Илья Григорьевич Эренбург, Б.Н. Полевого назначили председателем комиссии по организации похорон. Главный редактор «Юности» пришел в редакцию и попросил меня быстро набросать проект официального некролога для «Правды». В отделе кадров Союза писателей мне выдали личное дело автора «Хулио Хуренито». Когда скончался В.Б. Шкловский, ситуация повторилась. Интересно было всматриваться в почерк, вчитываться в старые, пожелтевшие листы анкет и автобиографий, где истинное мешалось с недостоверным, но все грозно затмевалось фантастикой советской истории.
На Эренбурга собралась вся интеллигентная Москва. Шкловский был похоронен скромно, без излишеств. Сам Виктор Борисович всегда ходил прощаться с товарищами своей молодости. Он обычно плакал у гроба, и я хорошо помню его выкрик и слезы: «Прощай, Костя!», когда хоронили Паустовского.
* * *
Похороны в ЦДЛ – особая, очень непростая и памятная тема, и когда-нибудь я напишу подробней о прощаниях с Твардовским, Казаковым, Трифоновым, Тендряковым, Соколовым и многими другими, менее знаменитыми писателями.
* * *
Слава Богу, на старости лет стал читать (помимо немецкого) на французском, английском и отчасти на итальянском.
* * *
Оптимисты, как правило, люди нерелигиозные. От пессимистов они отличаются прежде всего отношением к смерти. Оптимист не берет ее в голову. Пессимист воспринимает смерть как должное, исподволь готовится к ней.
Все великие книги созданы пессимистами. Они слишком хорошо понимали и любили жизнь, чтобы обманываться на ее счет.
* * *
В девяносто шестом театр «Современник» отмечал сорокалетний юбилей. Ненадолго заехал Б.Н. Ельцин с женой поздравить Г.Б. Волчек с праздником и очередным орденом. Уходя, Наина Иосифовна передала мне красивый букет, врученный ей при входе, шепнув: «Передайте, пожалуйста, цветы от меня Олегу Николаевичу Ефремову». Начался спектакль «Крутой маршрут», потом поздравления, вся труппа чинно восседала на сцене. Ефремов находился в зале среди зрителей рядом с Таней Лавровой. Никому в голову не приходило пригласить его на сцену, даже настоять, если он, ныне мхатовец, «скромно» отказывался. Галина Волчек покачивала головой, как бы намекая на не вполне респектабельный вид основоположника. «Современник» без Ефремова был невозможен, и Олег не нуждался ни в фарисейской опеке, ни в каких-либо оправданиях. Тем более что зритель был в основном «свой», театральный.
Когда я с букетом Н.И. позвал его на сцену и сказал несколько слов о его роли в истории театра, зал взорвался аплодисментами. Сценарий вечера слегка пошатнулся. Особенно после того, как Ефремов, приняв цветы и оглядев собрание, вдруг произнес знаменитую толстовскую фразу: «Любить еврея трудно, но надо». Зал изумленно затих. «Что ты говоришь, Олег!» – зашептал я, цепляясь за его пиджак. Но никаких комментариев от Ефремова не последовало. Он махнул рукой и нетвердо спустился в зал.
На самом деле эта толстовская мысль, направленная, в сущности, против русского антисемитизма, упрямо сидела в буйной голове Олега Николаевича, что, кстати, подтвердил А. Смелянский в своей книге «Уходящая натура». Но время и место для подобных публичных изречений было выбрано крайне неудачно. Толстовская сентенция требовала подробных пояснений с уклоном в российскую историю. Ефремов же доказательства формулы оставил при себе.
Но только полный идиот, совершенно не знавший этого человека, мог заподозрить Олега Николаевича, а заодно и Льва Николаевича, в антиеврейских настроениях. И такие нашлись, и потирали руки со злорадным удовлетворением.
* * *
В последний раз я видел его в Париже. Из самолета Ефремова вывезли в коляске, воздух в больные легкие шел через носовые трубки. Мы обнялись и поехали в дом Представительства при ЮНЕСКО, где ему предстояло жить несколько дней в перерывах между госпитальными процедурами. Эмфизема легких уничтожила Олега, но он говорил о будущем Сирано, и только глаза выдавали печаль и неверие. Выпили по глотку красного вина. Между тем, французы на время подняли его, и Ефремов возвращался в московский самолет уже своим ходом и без трубочек. На прощание он помахал рукой и скрылся навсегда.
* * *
«Мертвые отличаются от живых тем, что никогда не умирают».
Перечитывая мемуарную прозу и письма Лидии Корнеевны Чуковской, вижу ее в конце шестидесятых в квартире на улице Горького, склонившуюся над версткой, которую она близоруко приближает почти вплотную к глазам. Вижу в восемьдесят седьмом на Пастернаковских чтениях в Литературном институте высокую, седую, непреклонную, всю в черном. Вижу в Переделкине на открытии в девяносто четвертом музея Корнея Ивановича Чуковского, с которым вступил в беглую и очень дорогую для меня переписку, когда он печатался в «Юности», а я был там редактором отдела.
Когда некто Зубков, офицер госбезопасности, которого я неоднократно видел в ЦДЛ, вдруг появился в моей квартире на Суворовском и стал предлагать сотрудничество, я отговорился тем, что работаю в Академии общественных наук при ЦК КПСС, и этого вполне достаточно. «Хорошо подготовились, – сказал, отставая, Зубков и перевел разговор: – Библиотека у вас, вижу, замечательная». «Да, да, – охотно подхватил я, – и много подаренного, с автографами. Вот Леонов, Катаев, Мартынов, Чуковский…». “Надеюсь, не Лидия Корнеевна?” – быстро спросил посетитель, как бы делая стойку. Я промолчал, и он удалился, сказав на прощание: «Напрасно вы отказались помогать нам, вы даже не представляете, какие авторитетные люди в московской писательской организации охотно работают с нами». Напомню, что имя Л.К. Чуковской было на шестнадцать лет вычеркнуто из литературы за сотрудничество с А.И. Солженицыным.
А что же офицер Зубков? В новое время он переквалифицировался не то в банкира, не то в бизнесмена. Его фото крупным планом несколько раз попадались мне на рекламных страницах глянцевых журналов.
* * *
С Василием Аксеновым ушли целый стиль, тип, образ жизни праздничного и печального шестидесятничества. Он останется в памяти культуры как блестящий артист литературной сцены и как пример истинного профессионализма. Его боксерская внешность, картинное западничество вкупе с любовью к джазу так и просятся в советско-американскую антологию ХХ века. Но при этом, заметьте, он был и остается поэтом провинциальной российской дороги – будь то полпути к Луне или ухабы, по которым вечно трясется наша затоваренная бочкотара.
* * *
С тех пор, как в России ввели указом свободу совести, некоторые интеллигенты, профессора и доценты, вкусившие прелесть неофитского православия, стали путать амвон с университетской кафедрой. Пользы от этого нет ни церкви, ни светскому образованию, ибо сказано: «кесарево кесарю, а Божье Богу».