ГАЗЕТА "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"
АРХИВ АНТОЛОГИИ ЖИВОГО СЛОВА
2006 № 8 (86)
| ГЛАВНАЯ | ВЕСЬ АРХИВ АНТОЛОГИИ ЖИВОГО СЛОВА | АВТОРЫ № 8 (86) 2006 г. | ПУЛЬС | ОБЩЕСТВО | ФЕСТИВАЛИ | МНЕНИЕ | ЭТЮДЫ | ИСТОРИЯ | СЛОВО | ВРЕМЕНА | СУДЬБЫ |
 |
Copyright © 2006 Ежемесячник "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО" - Корпоративный член Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР) |
Лазарь Шерешевский
Так жили поэты
Полвека назад, в начале 1956 года, мне выпало счастье участвовать в 3-м Всесоюзном совещании молодых писателей. «Выпало счастье», - пишу потому, что я тогда лишь недавно приехал из заполярной ссылки. До конца я еще не был реабилитирован, но уже поступил в университет в городе Горьком, хотя был не очень благонадежным лицом.
Меня поддержал прекрасный поэт и человек Лев Озеров, которому понравились мои поэтические опыты, и в результате я попал в семинар Ильи Сельвинского, где «ассистировали» маститому мэтру тот же Лев Озеров, Семен Липкин, Николай Сидоренко, Корнелий Зелинский.
В нашем поэтическом семинаре собрались люди, впоследствии вписавшие свои имена в литературу: поэты Николай Панченко, Наталья Астафьева, Олег Шестинский, Андрей Дементьев.
Стихи самого Сельвинского я знал, можно сказать, с отрочества, особенно мне нравилась его знаменитая поэма «Улялаевщина», да и многое другое – от небольших лирических стихотворений и баллад до драм в стихах. В написанном Сельвинским в годы войны стихотворении «Россия» мне запомнились строки, где поэт рисовал свой портрет: «Я смолоду был тигроват, под старость – медведеобразен». И вот в комнате, в здании ЦК комсомола, где мы занимались, появился коренастый пятидесятилетний мужчина в очках, напоминавший если и медведя, то очень интеллигентного медведя, изрядно вкусившего от меда культуры. Он внимательно слушал наши вирши, тонко разбирал их и вдруг прорывался вычеканенной формулой: «Любовь – это страсть, ударившаяся о препятствие!»…
Разбирая стихи одного из наших семинаристов, Илья Львович привел как пример художественной завершенности стихотворение об олене, который «красоту от смерти уносил». Переждав нашу восторженную паузу, Сельвинский спросил: «Знаете, чьи это стихи? Это – Бунин». Люди нашего поколения Бунина, в сущности, не знали, - разве только его перевод «Песни о Гайавате», который издавали даже во времена Сталина, Все же остальное творчество Бунина, заклейменного ярлыком эмигранта и антисоветчика, было десятки лет от нас закрыто – как его проза, так и его поэзия. И громко произнесенное Сельвинским имя еще запретного автора было своеобразным вызовом: ведь семинар наш проходил в самом начале 1956 года, месяца за полтора до ХХ съезда партии.
 Но если наши занятия носили
несколько академический, во всяком случае строгий и серьезный характер, то в
одной из соседних комнат шел семинар в совершенно ином духе – семинар Михаила
Светлова. По вечерам в гостинице участники разных семинаров обменивались
впечатлениями.
Но если наши занятия носили
несколько академический, во всяком случае строгий и серьезный характер, то в
одной из соседних комнат шел семинар в совершенно ином духе – семинар Михаила
Светлова. По вечерам в гостинице участники разных семинаров обменивались
впечатлениями.
Из питомцев светловского семинара я сблизился с двумя поэтами – ростовчанином Даниилом Долинским и представлявшим тогда Калугу, где у него вышла первая книга, молодым Булатом Окуджавой. Его родителей как раз только-только реабилитировали ( отца – посмертно), мать его получила жилье в Москве, и Булат вскоре тоже должен был возвратиться в столицу, вновь увидеть памятный с детства Арбат…Они рассказывали, как проходил семинар Светлова. Поэт поведал своим подопечным, что возникшее после смерти Сталина внимание к легкой промышленности подвигнуло его на сочинение четверостишия, которое он не замедлил прочитать:
Не слышно грохота железа,
Чуть-чуть отпущена узда,
И над рекламой майонеза
Горит кремлевская звезда.
Затем, легко и лихо меняя тему, привел свою частушку:
Вот прогнал старик старуху,
Взял он в жены молодуху:
Это – не лихачество,
А борьба за качество!
Разбирал он творчество участников семинара тоже в этаком ироническом стиле: «Однажды пришел любовник к чужой жене. Вдруг послышались шаги раньше времени вернувшегося мужа. Неверная жена запихала своего гостя в гардероб, где висели ее платья, густо пропитанные запахами духов. Просидев в шкафу несколько часов и дождавшись ухода мужа, любовник вывалился из шкафа в полуобморочном состоянии, произнеся лишь одну фразу: «Ох, дайте кусочек дерьма!» - «Вот и я хочу, - продолжал Светлов, обращаясь к разбираемому автору, - чтобы в ваших стихах было поменьше парфюмерии и побольше естественного, природного, живого!»
Устраивая «переменку» между двумя разборами, Светлов предавался воспоминаниям: «Знаете, как я стал русским писателем? Детство мое прошло в еврейской местечковой среде. Как полагалось в те времена, меня отдали в школу – хедер, где учитель-меламед знакомил детей с древнееврейским языком и учил их читать Библию в оригинале, а также обучал синагогальным молитвам. За это мой отец платил учителю пять рублей в месяц. Однажды отец побывал по каким-то делам в другом местечке и узнал, что тамошний учитель за такой же курс наук в хедере берет три рубля. Отец вернулся домой, пошел к учителю и сказал ему: «Ребе, уж если вы берете с меня пять рублей за науку, красная цена которой – три рубля, то на эти два рубля, что я вам переплачиваю, выучите моего Мишеньку еще и русской грамоте!» Светлов заключил: «Вот так я стал русским писателем!»
Этот вывод пронизан знаменитой светловской иронией, которая прорывалась в самых неожиданных житейских эпизодах. О его прикрытой слегка юродствующей иронией отваге ходили легенды. Одна из них возвращает к тем страшным дням, когда готовился «процесс врачей», обвиненных в том, что они были агентами еврейской организации «Джойнт», которая, по словам советских газет, являлась филиалом американских спецслужб и занималась оплатой шпионажа. В те дни Светлов на вопрос: «Как живете, Михаил Аркадьевич?» - ответил: «Плоховато живу: гонораров нет, да и «Джойнт» что-то давно ничего не присылал…»
Года через полтора после нашего совещания в Москву выступать были приглашены нижегородские поэты, среди которых был недавний колхозный комбайнер Борис Шумилов. В подростковые годы он якшался с блатной публикой, и его руки украшала обильная татуировка. Ужиная после выступления в ресторане ЦДЛ за одним столиком с Борисом, Светлов осторожно взял его руку в свою (а дело было летом, мы были в безрукавных сорочках) и сказал: «Слушай, старик, дай мне твою руку на ночь почитать!»
По правде сказать, мне самому хотелось бы найти повод, чтобы привлечь к себе внимание Светлова. Но не получилось: осенью 1964 года его не стало… А в 1968 году пришла весть и о кончине Ильи Сельвинского, воина, полярника, охотника, мастера стиха и наставника нескольких поколений литераторов.
С творчеством интересных мне поэтов я познакомился задолго до личных встреч с ними. Но если со стихами Сельвинского и Светлова я встретился на страницах их книг, то с произведениями Леонида Мартынова первое мое знакомство состоялось по… рецензии в одном из довоенных (кажется, 1940 года) номеров журнала «Литературное обозрение».
Вскоре после моего возвращения с Севера, уже, так сказать, «на Большой земле», вышла (как я потом узнал, после десятилетнего перерыва) новая книга стихов Мартынова, скромно озаглавленная «Лирика». Она стала литературным событием тех лет.
Когда в 1957 году я должен был писать дипломную работу, то выбрал тему «Философская лирика в современной позии», где решил одну главу целиком посвятить Леониду Мартынову. Очень хотелось встретиться с автором: я пошел в редакцию журнала «Юность», где часто печатали Мартынова и где отделом поэзии заведовал мой знакомый поэт Николай Старшинов.
«Коля, - сказал я ему, - не знаешь ли ты адрес Леонида Мартынова?» - «Очень даже знаю и помню наизусть, - ответил Старшинов. - Я бывал у него, и такой адрес не запомнить нельзя: 11-ая Сокольническая улица, дом номер 11, квартира номер 11, комната площадью 11 квадратных метров.
И я поехал по столь экстравагантному адресу.
Это был старый деревянный, кажется, двухэтажный дом в отдаленной части Сокольников. В комнате были две кровати, между ними длинный стол, не письменный, а, так сказать, многофункциональный: за ним и обедали, и шили, и читали, и прекрасные стихи писали. Остальное пространство 11-метрового жилища заполняли книги – ну, сколько удавалось их там уместить.
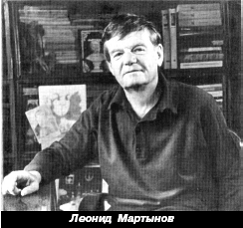 Меня встретил человек,
который мне показался образцом сибирского богатыря: высокий, широкоплечий, с
умным и красивым лицом, с постоянно распахнутым воротом (Мартынов не признавал
галстуков, как и Булат Окуджава), с приветливой улыбкой. Разговор был у нас
долгий, то и дело переходивший на разные темы: Север, поэзия, опыт ссылок и
лагерей. (Леонид Николаевич тоже побывал в ссылке, весьма оригинальной: в
начале тридцатых годов его из Омска – Сибирь! – сослали… в Вологду, - хоть и
север, но Европа и к Москве куда ближе, чем Омск.)
Меня встретил человек,
который мне показался образцом сибирского богатыря: высокий, широкоплечий, с
умным и красивым лицом, с постоянно распахнутым воротом (Мартынов не признавал
галстуков, как и Булат Окуджава), с приветливой улыбкой. Разговор был у нас
долгий, то и дело переходивший на разные темы: Север, поэзия, опыт ссылок и
лагерей. (Леонид Николаевич тоже побывал в ссылке, весьма оригинальной: в
начале тридцатых годов его из Омска – Сибирь! – сослали… в Вологду, - хоть и
север, но Европа и к Москве куда ближе, чем Омск.)
Узнав о теме моего диплома, Мартынов показал мне новые, еще не опубликованные стихи, познакомил со своей женой Ниной Анатольевной - невысокого роста женщиной с огромными глазами («Как у Лили Брик», - подумалось мне).
После долгой беседы Леонид Николаевич пошел проводить меня до метро, и мы продолжали говорить о новейших эпигонах символизма. «Какие они символисты? – усмехнулся Мартынов. – Они так… цимбалисты!»
Этот год, в начале которого я побывал у Мартынова, для него оказался богатым событиями: вскоре ему все-таки дали пристойную квартиру на Ломоносовском проспекте, где он и жил до конца своих дней.
Следующая наша встреча состоялась в 1965 году в Колонном зале, где проходил съезд писателей России. Я приехал туда из Горького вместе с поэтессой Маргаритой Ногтевой, чьи стихи на меня производили сильное впечатление, и мне хотелось, чтобы с ними познакомился Леонид Николаевич. Мы устроились на площадке между лестничными маршами, ведущими с первого этажа на второй, и Мартынов, нависая над нами высотой своего роста, долго слушал стихи. Когда я спросил его о самочувствии, он вздохнул: «Устал…» Я напомнил ему о стихотворении «Усталость» из книги «Лирика» - об усталости, «не на века». – «Нет, - ответил Мартынов. – Теперь у меня другая усталость». Ему тогда было 60 лет, но душевная бодрость не покидала его, невзирая на признаки той самой усталости.
Через несколько лет мы переехали из Горького в подмосковный город Красногорск. Недалеко от него находилось село Степановское, куда на летние месяцы приезжали Леонид Николаевич с Ниной Анатольевной. Перед отъездом из Горького я узнал, что там готовится конференция по творчеству Мартынова, и написал для местной газеты статью о поэте. Напечатана она была уже после моего отъезда, но побывавший в Горьком автор книги о Мартынове критик Валерий Дементьев эту газету обнаружил и привез в Москву Мартынову. Вскоре после этого я нашел в почтовом ящике извещение на бандероль – и, придя на почту, получил пакет, в котором, завернутая в обрезки обоев (видимо, в доме Мартынова был ремонт), лежала новая книга поэта «Во-первых, во-вторых и в-третьих» с теплой дарственной надписью мне…
Из книги я узнал, чем занимался Мартынов летом в селе Степановском: он собирал камни, оставшиеся от ледникового периода, старался выяснить их возраст, происхождение, состав. Космичность его поэтического мышления включала в себя – геологию и географию, историю и искусство, область интимных чувств и пути переселения народов… Недаром Борис Слуцкий в стихах, посвященных Мартынову, писал, что поэт «знает, какая сейчас погода в любом уголке земли…»
Летом 1974 года мы с женой поехали в Степановское навестить поэта, но, к сожалению, не застали ни его, ни Нину Анатольевну. Хозяева простой крестьянской избы, в которой Мартыновы снимали комнату, сказали нам, что постояльцы уже вернулись в Москву. Мы молча постояли над тихой прозрачной рекой Истрой, протекавшей близ Степановского. Родство с этой рекой, видимо, ощущал поэт, много лет бродивший по ее берегам…
Вспоминаю строки Осипа Мандельштама: «Не три свечи горели, а три встречи…». Это словно бы о тех моих встречах, о которых я рассказал. Эти встречи подобны истинным светочам на моем жизненном и литературном пути. Их «из пламя и света рожденное слово» не умолкает в моей памяти.