"ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"
АНТОЛОГИЯ ЖИВОГО СЛОВА
 |
"Информпространство", № 185-2014Альманах-газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"Copyright © 2014 |
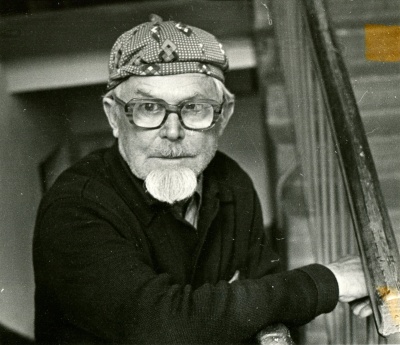 |
| Юрий Моисеенко. Фото П. Костромы |
Павел Нерлер
Разоблачение разоблачения, или про четыре ведра помоев
Я воюю кривду…[1]
(Парафраз)
1
У владивостокского
краеведа Валерия Маркова – «бывшего
секретаря комсомола..., ушедшего в свое личное мандельштамоведение
как в монашество»[2] – неоценимые заслуги перед теми, кому
дорог Мандельштам. Во-первых, это краеведческие разыскания и первые сведения о
пересыльном лагере, в котором поэт умер; во-вторых,
приблизительная локализация той братской могилы, в которой и мандельштамовские косточки должны бы лежать. И это он
привез на 100-летний мандельштамовский юбилей горсть владивостокской земли с места его могилы и бросил ее 19
января 1991 года в снег на могиле Н.Я. Мандельштам на Старокунцевском
кладбище – запоминающийся жест.
В статье «Очевидец», опубликованной в 13-м выпуске Тихоокеанского
альманаха «Рубеж»[3], он – впервые систематически
– называет свои источники к первому и излагает ход рассуждений, приведших ко
второму и третьему. Все это прямая поисковая и созидательная работа
исследователя-краеведа – честь и хвала.
Но на этот раз Марков взялся за перо, увы,
совсем для другого – чтобы разоблачить, чтобы вывести на чистую воду, чтобы
сорвать маску с одного из важнейших свидетелей последних недель мандельштамовской жизни. Мало того, все предыдущие свои
труды и достижения Марков считает не более чем «увертюрой-прелюдией» этого
разоблачительного сеанса, аттестуемого им как «новый этап исследований, вызванных явлением очередного (не знаю – какого
по счету) очевидца смерти поэта». В другом месте он пишет, что, получая
очередную справку, «разоблачающую» Моисеенко, он готов был «плакать счастливыми слезами», в третьем –
что готовился к этому сеансу-бенефису в «Рубеже» больше 20 лет.
Поздравления! Жизнь, наконец, удалась!..
Юрий Илларионович Моисеенко оставил свои свидетельства в
форме писем, аудио- или печатных интервью. Нас, расспрашивавших
его о Мандельштаме, было всего трое – Эдвин Поляновский,
Николай Поболь и пишущий эти строки (впрочем, он
давал интервью и местным корреспондентам). Моисеенко уже нет в живых, умерли и двое
из его собеседников. Посему считаю себя просто обязанным отложить все дела и
вступиться за честь опороченного Марковым честного человека и замечательного очевидца.
Свой опус Марков, кстати, так и назвал: Очевидец. Без
кавычек. Но все его содержание – это набрасывание этих липучек-«кавычек»
на Моисеенко – как на лже-свидетеля.
Оспаривая достоверность свидетельств Моисеенко, Марков не
смущается повторять совершенно бредовые истории о смерти, слышанные им в начале
своего «романа с Мандельштамом» (автохарактеристика):
«Краевед
и знаток литературной истории Приморья Сергей Иванов, cам побывавший в шкуре «врага народа» и отсидевший
свой, к счастью, – небольшой срок, под большим секретом поведал о том, что
Мандельштам был убит уголовниками, когда находился в пересыльном лагере. Его
тело было расчленено на части и уложено в четыре ведра. Затем, от других людей,
довелось слышать разные варианты этой легенды, и во многих фигурировали эти
страшные «четыре ведра». Откуда такая расцветка смерти поэта - не знаю».
Так же, ничем не моргнув
и ничего не фильтруя, он вводит в научный оборот версии о Мандельштаме в психзоне под Сучаном и об идиллической старушке в селе
Черниговке, с которой Мандельштам коротал свои последние дни: «Очевидцы утверждали, что своими глазами
видели покосившийся крест на могиле поэта с полуистертой
надписью «О. …штам». Однако эти сведения оказались
неподтвержденными».
Ведь ценнейшие
какие сведения, ну и что, что не подтвержденные! Осталось только доискаться, эмалированными
ли были ведра и не Ариной ли Родионовной звали старушку?..
Мне, кстати, приходилось встречать мандельштамовских
лже-свидетелей:
безобиднейшие люди. К прочитанному рассказу Эренбурга или, в
лучшем случае, Надежды Яковлевны они прибавляли от себя всего пару фраз: всегда
– о том, как Мандельштам умер у них на руках, и, через раз, вторую – чтó именно он, умирая, успел произнести в их адрес
напутственное. На несовершенный залог, – то есть не на «умер», а на
«умирал» с подробностями – фантазии или решимости уже не хватало.
А тут наглый враль Моисеенко, натискавший целый «рóман» детализированных фантазий,
к тому же подтверждающихся и мемориальской базой
данных, и другими свидетельствами: все учел, все предусмотрел этот хитрован из Осиповичей!
Впрочем, и Марков не прост. Потому и мечет свой томагавк не
во все, что сообщил Моисеенко, а только в часть. Он не оспаривает того, что
Моисеенко был в лагере осенью 1938 года и в сибирских лагерях весной 1939 года,
не оспаривает он и его знакомства с поэтом. Та малость,
которую он пыжится доказать, – лишь
в том, что с начала декабря 1938 года и по апрель 1939 года Моисеенко был не на
Владивосткской пересылке, а на Колыме. А в таком
случае – ура! – смерти Мандельштама Моисеенко видеть никак не мог, так что никакой
бани с прожаркой не было, – что и
требовалось доказать!
Мне лично довелось переписываться и даже разговаривать с тремя очевидцами
– Крепсом, Маториным и
Моисеенко. Крепс и вывел меня на Маторина,
не переставая нахваливать его как свидетеля (а я направил к нему и Маркова), а о
Моисеенко тогда еще никто не знал. Старые зэки Моисеенко и Маторин,
прочитав о Мандельштаме друг у друга, явно
недолюбливали свидетельства друг друга, оба возбуждались и отмечали то, в чем,
по их мнению, ошибается другой, но ни один не говорил о другом, что он лжец или
самозванец и не позволял себе того, что Григорий Померанц
называл «пеной на губах».
А вот Марков – позволил, и на губах его одна только пена, а у читателя вместо
лебединой песни – только шипение пенящейся пустоты...
2
Свое наступление Марков повел сразу с двух сторон – с риторической и с исторической.
Сначала о риторическом заходе. На протяжении многих страниц
– выморочные попытки разоблачения «лжи». «Самое
главное, – покоя не давало смутное ощущение того, что кроме ошибочных сведений,
герой-прозелит что-то скрывает, не договаривает...». Таких фразочек в «Рубеже» – десятки!
Но после такой арт-риторической подготовки так и ждешь, что
теперь Марков-историк добьет своего «героя-прозелита» неотразимо убийственными
аргументами.
Что ж, слово Маркову-историку!
Составленный им каталог прегрешений Моисеенко против правды-матки не так
уж и длинен.
Во-первых, говорил, что прибыл в лагерь 15-го, а на самом деле 14-го октября.
Во-вторых, говорит, что срок у Мандельштама 10 лет, а на самом деле 5. В-третьих,
грубейшею ложью является утверждение, что до самой смерти поэт оставался в
подаренном Эренбургом, желтой кожи, пальто.
Ну и, в-четвертых и в-пятых, Моисеенко утаил, что плыл на «Джурме» в Нагаево и что зиму 1939 года провел на Колыме: в
начале декабря 38-го года – туда и в апреле 39-го –обратно!
Так что смерти мандельштамовской не видел, ври да не
завирайся.
К Нагаево и Колыме мы еще вернемся, а сейчас напомним
о феномене аберрации памяти, то есть о первых трех обвинениях.
Воспользуемся для этого теми пассажами, где Марков поминает лично меня
или мои работы. Так, он пишет, что я приезжал во Владик с телевизионщиками в 1989 году и что нас якобы не
пустили на территорию экипажа – бывшую лагерную. А я помню это иначе: дело было
в 1990 году (фильм вышел на экраны 15 января 1991 года), и нас за ворота пустили,
но только двоих и без камеры. Марков тогда уверенно показывал мне свои
краеведческие реконструкции местонахождений – и 11-го барака, и больнички, и
карьера, и места братской могилы (но это уже снаружи). Мое второе посещение
экипажа состоялось в 2006 году, и с нами был Коля Поболь.
Третьего визита не было.
Итак, двое участников одного и того же события утверждают о нем весьма разное. Проверить, кто из них прав, в данном случае не очень
сложно. Но, кто бы прав ни оказался, его «правота» вовсе не
означает, что другой, тот, кто не прав, – лжец. Просто одного из нас, а
может быть и обоих, подвела память, поскольку мы, слава Богу, не в состоянии
удерживать все детали в их доподлинности бесконечно долго. Это, собственно, и называется
«аберрацией памяти», – и это не болезнь и не злой умысел.
Когда Моисеенко упорно говорит о наличии на умирающем Мандельштаме
желтого кожаного пальто Эренбурга, а другие помнят иначе и даже говорят, что это
пальто уже давно было украдено или выменено
Мандельштамом на сахар, тут же у него и украденный, то все это более чем возможно,
но все это тоже аберрации памяти. Если всем сообщающим об утрате поверить, то нарядов
у поэта был целый гардероб – тут и бушлат, и телогрейка, и пиджак, и даже тулуп,
и зеленый френч, но ни один наряд не совпал в памяти разных людей хотя бы
дважды. Усомнился бы я и в готовности находящегося в ГУЛАГе и не отличающегося
богатырским здоровьем Мандельштама обменять накануне или в разгар зимы
единственную теплую вещь на десерт.
Лично для меня убедительнее остается версия Моисеенко, сообщающего такую
яркую, такую доподлинную деталь, какую невозможно придумать: пальто не взяли в
прожарку из-за того, что оно кожаное (и, наверное, обработали иначе, например,
сулемой). Вполне возможно, что у Мандельштама было не пальто, а тулуп (с
кожаным верхом), полученный в больнице, когда поэт оказался в ней в первый раз.
И сколько бы Марков и загадочная фрау Кухарски из
Вены не ахали и не охали, цена таким «доказательствам» – грош. Доказать тут
ничего нельзя, можно только допустить.
Оспаривал Марков и самый факт
хождения в баню и на прожарку. Мол, холодно и далеко. Но когда и кого это в
ГУЛАГе останавливало? Новые свидетельства, – в частности, Моисея Герчикова, сообщающего, что Израиль (Сергей) Цинберг, скончавшийся назавтра после Мандельштама, умер
именно после похода в баню, –
прекрасно согласуются с моисеенковскими[4].
Обратимся к центральному марковскому аргументу
– к путешествию Моисеенко на Колыму. Сам Моисеенко, правда, упорно о себе
думает, что в январе-феврале 1939 года переболел тифом и оглох, после чего в
апреле и был сактирован в Мариинск. По Маркову – все иначе: Моисеенко забросили
в начале декабря последним в 1938 году трюмом в Нагаево. Моисеенко видимо был
там настолько позарез нужен, что даже карантин по тифу, объявленный на
пересылке со 2 декабря (и закончившийся 26 декабря, как и полагается, прожаркой
вещей и бараков) не остановил ни его собравшихся у причала работодателей с
цветами в руках, ни его биографа Маркова с лупой и календарем. Марков Моисеенке
на Колыме уже и местечко получше подобрал, где тот
коротал бы эти месяцы: больнично-санаторного типа лагерек
«23-й километр». Но даже на таком курорте как Колыма приморский тиф, видимо, полностью
не прошел, или же с Моисеенко произошло что-то еще, но магаданские гуманисты возьми
да и верни его в апреле 1939 года с благодарностью сначала на материк, на пересылку,
а оттуда, уже не мешкая, в Мариинск – столицу Сиблага[5].
Ну хорошо, пройдем и мы вслед за Марковым по стопам биографии Юрия
Моисеенко.
Марков охотно раскрывает свое «досье на Моисеенко», цитирует в полном
объеме свою переписку с различными инстанциями. Он договаривается до того, что официальное письмо из местного УФСБ называет,
словно невесту, «первой ласточкой, «сделавшей
весну» (sic! –
П.Н.) и пробившей
лучиком света тайну очередного очевидца».
Что же до содержания досье – этой
коллекции сушеных «ласточек», то бишь архивных
справок, составленных на основании учетных карточек, – то все они говорят только об одном: 11 апреля 1939 г. Моисеенко
отбыл из Севвостлага в Сиблаг
(Мариинские лагеря). Пересылка во Владивостоке – такая же часть Севвостлага, как и золотые или оловянные прииски. И ни одна
лучезарная справка не содержит ни тени намека на пребывание Моисеенко именно на
Колыме – хотя бы на пол-часа. Ни одна![6]
И напрасно Марков радовался
сравнению с «почти идентичной»
карточкой Сергея Королева. Он, кажется, даже не понял, что, приводя ее и
текстуально, и факсимильно, предается забавам вдовы
одного унтер-офицера. У Королева как раз Колыма указана, и очень конкретно. А
вот у Моисеенко – не указана. И не по ошибке, а потому что он там не был.
Карточка Моисеенко – да, магаданская.
Потому что архив всего Дальстроя, в том числе и владивостокской пересылки, – в Магадане, его столице, в
информационном центре областного УВД. Там же, кстати, хранится и
тюремно-лагерное дело Мандельштама.
Поисками же
корабельной документации (наподобие эшелонной) Марков не озаботился.
В одной из слетевшихся в досье
ласточек-справок – из Томска – было написано: «Дело на заключенного было
уничтожено 30 марта 1960 года по акту по истечению срока хранения». Прослезился
или нет, но этого Марков тоже не мог упустить: «Уничтожение дела во всеми
справками, выписками и формулярами; в их числе документы о пребывании на
Колыме, можно сказать – неопровержимыми уликами, возможно, и стало одной из первопричин,
побудивших Юрия Моисеенко сделать ложный шаг. Он достоверно знал об этом, не
предполагая одного, что следы остаются… Как говорится:
«ГУЛАГ не отпускает никогда…»
Его не останавливает даже то, что
Моисеенко, в отличие от Маркова, даже не подозревал о событии 30 марта 1960
года, столь возбудившем Маркова спустя почти полвека. Его не смущает даже то,
что любезнейший ГУЛАГ, хотя и не отпускает никогда, но своих детей, в том числе
и Моисеенко, о состоянии их делопроизводств, хоть оно и не вежливо, не извещает…
«Прямо шахматная партия», – говорил Мандельштам Ахматовой по поводу
ее пушкиноведческих статей. Марков же, расставив
шахматные фигуры, решил сыграть ими в «шашки-чапаевцы»,
прицельно выстреливая ногтем по беззащитной мишени.
Мазила!
3
Напоследок, уже завершая свое мелкодокументальное
и совсем не историческое эссе, Марков пробует еще раз унизить поверженного Моисеенко
– сравнением с другими, «ему подобными», лжецами: «Но, как говорят в народе – «свято
место пусто не бывает», – вплоть до
настоящего времени появляются новые «очевидцы», с неожиданными, порой – совершенно нелепыми легендами».
И тут же, в сноске – новый образчик, очередная легенда[7]:
«Автор приводит рассказ жителя г.
Большой Камень Приморского края – Николая Иванушко. Будучи семи лет от роду, он, якобы из рук Осипа Мандельштама,
получил записку, когда эшелон с невольниками перестаивал на станции Партизан
(ныне – Баневурово) Транссибирской магистрали на 9190
км от Москвы и в 79 км от Владивостока. В ней говорилось: «Меня везут на
Дальний Восток. Я человек видный, пройдут годы, и обо мне вспомнят». И подпись:
«Иосиф Мандельштам». Со слов очередного очевидца, автор указывает неверную дату
этой встречи – «июнь-июль 1938 года». И еще, – поэт никогда не называл
себя Иосифом; достаточно посмотреть его любой автограф – перед фамилией он
всегда ставил «О» – Осип…»
Поправим биографа. Мандельштам родился Иосифом, и его еврейское имя еще
долго сосушествовало параллельно с русифицированным
«Осипом». То, что в легендарной записке стоит «Иосиф», не делает ее
достоверной, но делает достовернее.
В сущности, мандельштамовским биографом Марков уже
перестал быть. Он теперь биограф, точнее анти-биограф Моисеенко. А Мандельштам
ему нужен лишь тогда, когда срабатывает рефлекс разоблачать Моисеенко.
Например, с датировкой «дня письма», отнесенной Моисеенко на начало
ноября, до праздников. Но раз Мандельштам пишет в письме: «очень мерзну без
вещей», а на улице в начале ноября было аж целых 10-11
градусов тепла, то есть бархатный сезон, то Марков возмущен: Моисеенко и тут
заливает. Ну не мог Мандельштам мерзнуть без вещей в такую жару!..
А, может, Моисеенко и в ноябре не было на пересылке, а?..
…Все время спрашиваю себя о
мотивации марковских сверхусилий
по «разоблачению» части свидетельств одного из немногих последних очевидцев. Что
за низкие, злобные комплексы, что за бесы толкали взрослого человека на такое
странное, такое малосимпатичное и совершенно пустое занятие? Ревность и зависть
к железнодорожному обходчику из белорусской глубинки, к
ему, а не тебе доставшемуся «шквалу обрушившегося на него внимания»,
к «согретости и обласканности
прессой и, практически, всемирной славе», к «зениту славы»?
Нелепые слова, ложные
представления. Как бы жарко несколько сотен человек на Земле ни любили стихи
Мандельштама, но в ООН вопросы его текстологии все еще не обсуждаются. Как и «физик
Л.» и другие очевидцы, Моисеенко не только не искал «всемирной славы», но
скорее побаивался своего намеренья открыться и рассказать то, что знал. В
Осиповичах, в семье Моисеенко дело, по словам его дочери, происходило так: «…Написать свое первое письмо о Мандельштаме
побудил его мой брат Сергей. Так получилось, что я нечаянно застала конец их
разговора. Папа был возбужден и говорил что-то возмущенно, я услышала только
слова брата: „А если бы это ты, мой отец, не вернулся и я ничего не мог узнать
о твоих последних днях!? Ты должен рассказать, что знаешь!“.
Дословно я. конечно, не помню, но смысл был такой.
Папа ничего не ответил, он просто замолчал, а до этого я слышала: „Не хочу, не хочу, не хочу“. Думаю, ему пришлось побороть себя, чтобы пережить все снова и снова»
[1] Парафраз
фразы Ю.И. Моисеенко (см.: Нерлер П., Поболь Н. Сосед Мандельштама по нарам. Юрий
Моисеенко — о поэте: «Умер от сыпняка», о
себе: «Я воюю правду…» // НГ. 2011. 28 ноября, с.6-7).
[2] Битов А. Колина страничка
// Собеседник на пиру. Памяти Николая Поболя. М.,
2013, с.94.
[3] Марков В. Очевидец. К
75-летию гибели Осипа Эмильевича Мандельштама.
Документально-историческое эссе // Рубеж. Тихоокеанский альманах. Вып.13.
Владивосток. 2013, с.202-231.
[4] См. подробнее в: Нерлер П. В одиннадцатом бараке. Последние
одиннадцать недель жизни Осипа Мандельштама. Попытка реконструкции // Новый
мир. 2014. № 4, с.155-187.
[5] Сиблаг, существовавший с 1929 и по 1960 г. Его столица перемещалась – то она в
Мариинске, то в Новосибирске. С 28 февраля 1937 и по 29 июля 1939 – как раз в
Мариинске.
[6] Колымская документация
содержала в себе, как правило, и указание на корабельный этап, которым зэка
приплыл в Нагаево.
[7] Приводится сноска на: Калашникова Юлия. Незнакомец по имени… Мандельштам. «Дальневосточные
ведомости», 2010, 31 марта.
* * *
Об авторе: Павел Нерлер (Павел Маркович Полян) – историк литературы, источниковед, писатель, историк, географ, председатель Мандельштамовского общества.